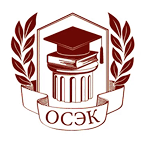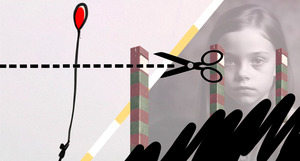Иллюстрация depositphotos
В связи с известными событиями информационное пространство полно самыми разнообразными мыслями о современной молодёжи. Но мысль как правило легковесна и поверхностна, а вот дума — основательна и, порой, безысходна.
С одной стороны пытаются понизить порог собственной обеспокоенности путём ссылок на возрастные особенности этой части нашего населения, на широко известные примеры, что и в глубокой древности считали молодёжь распущенной и безответственной, что известные молодёжные бунты в западных странах благополучно миновали. С другой стороны призывают к драконовым мерам по отношению к молодому поколению, или, по крайней мере, к какой-то его части.
С точки зрения науки этологии человеческий «молодняк», как и «молодняк» в животном мире, действительно обречён на девиантное поведение, поскольку вынужден добиваться себе приемлемого статуса в обществе. Они, молодые, всегда будут кучковаться, искать границы своей свободы и тем самым невольно провоцировать взрослых. Взрослые обязаны понимать это (вспоминать себя в молодые годы), но не должны пускать этот процесс на самотёк. Забота и ответственность взрослых — устанавливать некие ограничения своеволию молодёжи. Какие она сама способна установить для себя — известно из практики криминальных банд (вспомним Люберцы, Набережные Челны в 90-е годы), весьма реалистично это изображено и в книге У. Голдинга «Повелитель мух».
Когда ссылаются на древние примеры всегдашних сетований о распущенной молодёжи и благополучное разрешение проблемы «отцов и детей», то забывают, что общества тогда были не в пример сегодняшнему гораздо традиционнее и устанавливали гораздо более весомые ограничения для своих граждан.
Не надо также забывать, что даже относительно недавние бунты представителей «хиппи» и прочих эмансипирующих движений на Западе происходили в среде ещё не отвергнувшей религиозность и базирующейся на классическом образовании. В наше время постмодернистского релятивизма, гедонистического пост-либерализма «красные линии» для свободы (читай — своеволия) воспринимаются как некий жупел реакции и авторитаризма. В такой среде бунт молодых может выйти далеко за границы привычных нам добра и зла.
С недавних пор наши дети могут весьма свободно выражаться нецензурно в школе, общественных местах, могут открыто хамить учителям, пожилым людям, обзывать хранителей правопорядка «мусорами»... Заглянул тут в группу студентов в интернете (будущих педагогов, между прочим!) и обнаружил там такое количество мата, злобы, издёвки над своими учителями, что просто оторопь взяла... Откуда это в них? «Там, где нет хороших стариков, там и нет хорошей молодёжи», — гласит адыгейская пословица. Только стариками для них являются вовсе не ветераны, а мы, родители — «предки». И дело не в том, что мы транслируем им плохое в нас (хотя и это имеет место быть), а в том, что мы, все взрослые, не солидарны в воспитании, т.е. «даём слабинку» там, где её давать нельзя.
Но есть и другая сторона проблемы. Я уже писал, что в нашем образовании нет экзистенциального диалога между поколениями. Преобладает стратегия — загнать «молодняк» в загон (школу, вуз) и там подвергнуть обязательной дрессуре.
Наши совершенно непосильные требования в содержании образования, стремление продавить немыслимое количество учебного материала, протащить детей сквозь необъятные обязательные внеурочные мероприятия приводят к всё большему «сжиманию пружины», стремящейся по своей сути к распрямлению.
Мы не учитываем, что эта социальная группа живёт своей жизнью, всё больше эмансипируется (Грета Тунберг — как пример). Они, молодые, живут будущим, а живём ли будущим мы, взрослые, с их точки зрения? Когда они видят как хищнически уничтожается природная среда их будущей жизни, как хиреют малые города и посёлки, в которых они живут, как узурпируется национальное богатство горсткой богачей, то что они думают про нас? А «юность — это нечто вроде лихорадящего разума», как справедливо утверждал Ларошфуко.
И если мы вместе с ними не найдём приемлемые сферы приложения сил, не соединимся в гражданской заботе о своей стране, то они найдут сами (или им подсунут) то, что станет нашим приговором.
«Толпой угрюмою и скоро позабытой
Над миром мы пройдем без шума и следа,
Не бросивши векам ни мысли плодовитой,
Ни гением начатого труда.
И прах наш, с строгостью судьи и гражданина,
Потомок оскорбит презрительным стихом,
Насмешкой горькою обманутого сына
Над промотавшимся отцом».
Михаил Лермонтов.